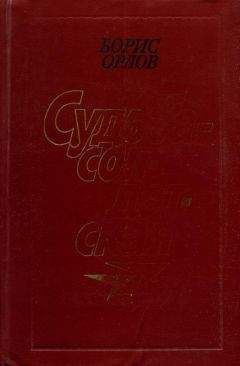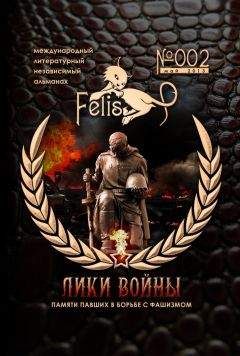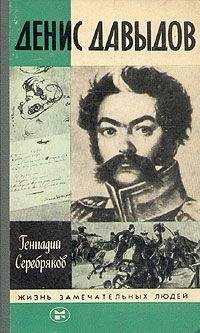В избу офицер вошел в сопровождении солдат.
Бросив на Варвару Алексеевну и Матрену злой взгляд, он сказал что-то солдату, и тот угрожающе проговорил по-русски:
— Зольдат хотчет кушайт.
От одного вида немца Матрену взяла оторопь. Разводя руками, она пробовала объяснить, что приходил обоз и все забрал. Солдат не дослушал. Схватил Матрену за руку. Выворачивая руку, повел из комнаты. Офицер шел следом.
Варвара Алексеевна, окаменев, опять стала смотреть в окно. Услышала истошный Матренин крик из поскотницы:
— Парша же!.. Пропаду я без нее!..
Два солдата гнали к крыльцу Чернушку. Чуть сбоку семенила, сжав ладонями искаженное от горя лицо, Матрена.
Возле крыльца немцы корову остановили. Третий солдат принес из сарая топор. Примерившись, он изо всей силы ударил скотину обухом между рогами. Чернушка, теряя равновесие, грохнулась на землю. Не дожидаясь, покуда она умрет, и, не свежуя, он стал рубить ее на части, которые тут же растаскивали по избам подходившие гитлеровцы.
К Матрене внесли заднюю ногу. Солдат следом втолкал обалдевшую Матрену. Взяв с кухонного стола нож, он сунул его ей в руки и приказал сдирать с ноги шкуру и готовить из мяса жаркое. При этом он пересыпал немецкую речь русскими ругательствами и жестикулировал, показывая то на сковороду, то на печь.
Матрена принялась за дело. Из ее глаз, когда она жмурилась, выкатывались крупные, тяжелые слезы. Нож в руке вздрагивал. Не слушался.
Ждавшие жаркого солдаты бросали на Матрену нетерпеливые взгляды. Устало посмеивались. Изредка говорили друг другу что-то по-немецки. Лица их были, очевидно, не мыты несколько дней и лоснились от пота и грязи.
Мясо ели они еще недожаренным. Уехали, как только поели. К Луге. Им было не до жителей деревушки — они походили на драных, полуголодных волков и спешили засветло добраться до своего логова.
На уезжавших гитлеровцев тревожно поглядывали из окон — понимали, что у ручья те наткнутся на телегу с убитыми полицаями. Уцелевший каким-то чудом Шарик выполз из-под крыльца и лихо лаял им вслед, пока они не скрылись за взлобком.
В избах после гитлеровцев остались только кости от полуобжаренной Чернушки и грязь, которую они нанесли сапогами, а по улице — разбросанные охапки сена из крестьянских стожков, кучки конского навоза да потроха от Чернушки у Матрениного крыльца.
Остаток этого дня Матрена просидела пришибленной на лавке в избе, а Варвара Алексеевна убирала: скоблила стол, как это любила она делать по субботам у себя, в Пскове; брезгливо отшаркивала голиком грязь от пола, а потом смывала ее чистой колодезной водой; выносила в сарай ненужные теперь кринки для молока. Работала с остервенением — так, что немела спина. Работала и думала то о Вале, то о муже и сыновьях. Не могла никак представить, что сулит каждому из них судьба. И понимала — отчетливо, ясно — только одно: встреча их всех, если ей суждено сбыться, зависит лишь от того, как скоро перестанут хозяйничать на родной земле гитлеровцы.
1Сентябрь был дождливый. Разбухали проселки. Становились непроходимыми тропы. А дождь с короткими перерывами лил и лил… Опадали листья. Рябина, оголяясь, краснела и обжигала глаза. На уставшего Петра находили минуты, когда он начинал зло смотреть в покачивающуюся впереди спину Семена. Оборачивался назад. Окидывал тяжелым взглядом Момойкина и бойцов, уцелевших от отряда Пнева после «бани». Порой казалось, что к лужанам Разведчику никогда их не привести. Вспоминал, как выбирались из болота возле пневского лагеря, как пришли на место, где Семен встречал лужских партизан раньше. Дошли они туда к вечеру и увидели… пустые шалаши с вытоптанной вокруг травой. «Ушли», — проговорил, смахивая рукавом фуфайки с лица пот, Разведчик и стал вслух прикидывать, куда могли они перебазироваться. Пунктов таких наметил он четыре. За неделю скитаний они побывали в трех. И вот шли к последнему. За эти дни все страшно исхудали: ели редко и не сытно, потому что заходить в деревушки и на хутора всей группой побаивались, а тем, кто заходил, продуктов крестьяне отпускали в руки скупо.
Лужан не оказалось и на последнем предполагаемом месте. Сделали привал. Съели остатки сала и хлеба. Семен, совсем растерявшийся, предложил пойти к знакомому леснику, который жил отсюда верстах в десяти у затерянного в лесах озера.
— Обсушимся… Наедимся вдоволь, а потом… и ночь в сухости проведем.
Он говорил виновато, хотя ни перед кем не был виновен, и про себя думал: «Может, леснику и известно, где лужане».
И они пошли.
Километрах в четырех от избушки лесника их остановили трое вооруженных парней и девушка. Они потребовали бросить оружие и поднять руки. Чеботарев раздумывал, что делать. Медлил, выигрывая время. В этот момент и послышался из-за его спины обрадованный голос Семена:
— Настя, ты что, не узнала? — И Семен пошел навстречу девушке, опустив автомат дулом вниз. — От Пнева мы, — говорил он, уже здороваясь с ней за руку.
Настя была знакомой Семена по Луге. Некрасивая, с большими толстыми губами и сплюснутым широким носом, она застенчиво трясла Семену руку и краснела. Семен приветливо поглядывал на нее, низенькую, одетую в легкое демисезонное пальто и стеганые брюки, посмотрел на синий берет, из-под которого торчали две жиденькие косички, заглянул в карие, глубоко сидевшие глаза.
Когда пневцы со всеми поздоровались и Чеботарев объяснил, в чем дело, старший лужан попросил Настю отвести их в штаб истребительного батальона, который теперь назывался Лужским партизанским соединением.
Всю дорогу Семен, не переставая, разговаривал с Настей. К нему вернулась живость — будто и не измотался за эти дни.
Пока шли, их дважды останавливали постовые.
Штаб располагался в замаскированной кустами землянке с плоской крышей. В землянке стоял полумрак. Чеботарев долго привыкал к нему. Постепенно стали различаться предметы, люди. В дальнем углу виднелось растянутое знамя Лужского райисполкома. Ближе, у стены, попыхивала железная печурка, а напротив нее пустовали застланные соломой нары.
В землянке находились трое: капитан пограничных войск и двое штатских, один в фуфайке, а другой в костюме.
Капитан, отпустив Настю, предложил пневцам садиться. Чеботарев остался стоять. Начал докладывать, что случилось с отрядом Пнева. Капитан хмурился, а те, двое, поднялись со скамейки возле стола и так стояли, пока Чеботарев не кончил.
Пауза длилась минут пять. Наконец человек в фуфайке задумчиво проговорил:
— Правильно я рассуждал, что Пнев разводит у себя партизанщину, и настаивал: «Пневу немедленно влиться в батальон, а вы… — Он посмотрел осуждающе на человека в костюме, лицо у которого окаменело, напряглось: — Вот вам и «Пнев там уже прижился. Подождем… Что его срывать без надобности?»
В землянку, прихрамывая на одну ногу, вошел немолодой уже мужчина с большущей темной бородой. Капитан посмотрел на него и сказал:
— Батя, вот остатки от отряда Пнева, — и мотнул головой в сторону нар. — Прими к себе. Парни боевые, не пожалеешь.
Но на разъяснения и уговоры, прежде чем Батя дал согласие, ушло у капитана минуты три.
Оказалось, Батя командовал одним из отрядов соединения.
О чем-то переговорив шепотом с капитаном и теми, штатскими, он забрал пневцев и вышел из землянки.
Отряд Бати располагался неподалеку от штаба.
Чеботарева и других пневцев Батя поместил в шалаш, где жил всего один боец. Уходя, командир сказал, приглядываясь к ним небольшими хитрыми глазами:
— Скоро землянки будем строить. Место ищем. А пока… обвыкайтесь.
Забравшись в шалаш, все сразу же повалились на разостланное сено и вскоре заснули.
Чеботарев проснулся к вечеру. Высунувшись из шалаша, он задумчиво смотрел на затянутое серыми тучами небо. Приглядывался к проходившим мимо бойцам. Вспоминал о Вале как о чем-то хорошем, милом сердцу, но теперь уже далеком, безвозвратном.
Вскоре поднялся Момойкин. Передернувшись от озноба, он подсел к Петру. Тоже стал посматривать на шалаши, на бойцов возле них. Увидав у дальнего шалаша дежурного по отряду, проговорил с тоскливыми нотками в голосе:
— Да-а, здесь не у Пнева, здесь прижмут… дисциплинка, по всему видать, строгая.
— Вред бывает не от дисциплины, а от разболтанности, — сухо посмотрев на Георгия Николаевича, бросил Петр. — Было бы у Пнева построже да поосмотрительней налажено дело, так… Сам погиб и людей погубил через это.
Чеботарев снова, как тогда, после боя у бани, вспомнил, что ему во время танцев на «пятачке» приходила мысль о непонятном поведении Егора. Опять получалось, что и на его, Петра, совести лежит частица вины за гибель отряда. Стараясь оправдать себя, он поглядывал на дежурного по отряду, который, переходя от шалаша к шалашу, приближался сюда, и с болью в душе думал: «Конечно, расхлябанность, она и другим передается: о бдительности никто не говорил, не настраивали на это ни Пнев, ни другие… ну, вот и притупилось это чувство… жили, как в таборе. Никаких бесед, никто не настораживал… а остроту надо прививать бойцу. В отряде каждый должен видеть насквозь друг друга. Иначе таких, как Егор, не сразу выведешь на чистую воду. Провокатор, от тоже не лыком шит, чаще… с умом».